 |

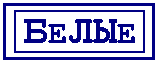
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Подготовка текстов, предисловие и примечания С.Б. Филимонова
Журнал "Историческое наследие Крыма", №16, 2006
В Крыму в годы Гражданской войны выходило множество газет: «Великая Россия», «Время Бор. Суворина», «Голос жизни», «Заря России», «Крымская мысль», «Крымский вестник», «Русская правда», «Русский терем», «Русское дело», «Святая Русь», «Таврические губернские ведомости», «Таврический голос», «Царь-колокол», «Юг России», «Южные ведомости», «Ялтинский вечер», «Ялтинский голос», «Ялтинский курьер» и др.[1]
Увы, газеты эти, в большинстве своем имевшие ярко выраженную антибольшевистскую направленность, со времен красного террора в Крыму 1920—1921 годов [2], когда за их хранение («за хранение контрреволюционной литературы») грозил расстрел, стали чрезвычайной библиографической редкостью. Лишь в нескольких библиотеках, архивах и музеях России и Украины удалось выявить подшивки (далеко не полные) этих изданий. Хуже того: газеты эти долгие годы содержались в режиме «специального хранения» и лишь недавно были рассекречены.
Анализ крымских газет периода Гражданской войны позволяет характеризовать их как ценный малоизвестный источник по истории отечественной интеллигенции, науки и культуры. В деятельности крымских вузов, других научных и культурных учреждений и организаций в 1917—1920 годах живое участие принимали не только представители местной, крымской, интеллигенции, но и крупнейшие ученые, бежавшие от большевиков из университетских центров России и Украины в Белый Крым. На страницах крымских газет и некоторых других изданий времен Гражданской войны автору настоящей публикации удалось обнаружить не только остававшиеся неизвестными материалы о деятельности Таврического университета и ряда научных обществ, но и остававшиеся неизвестными публикации таких корифеев отечественной науки и культуры, как философ священник Сергий Булгаков, ученый-энциклопедист академик В.И. Вернадский, его сын историк Г.В. Вернадский, будущий академик историк Б.Д. Греков, будущий академик филолог и литературовед Н.К. Гудзий, «король фельетона» Влас Дорошевич, классик крымоведения А.И. Маркевич, классик русской литературы И.С. Шмелев и др. Написанные автором настоящей публикации по этим материалам очерки, сопровождаемые републикацией самих материалов, регулярно печатались на страницах крымских газет и журналов, в том числе на страницах «Исторического наследия Крыма».
А недавно последовала очередная находка, которую смело можно отнести к категории сенсационных. На страницах газет «Ялтинский курьер» и «Юг России» за 1919—1920 годы удалось обнаружить остававшиеся неизвестными публикации классика русской советской литературы Алексея Николаевича Толстого (1883—1945) — публицистическую статью «Торжествующее искусство» и сатирическую сказку «Алёна». (Примечательно, что сказка эта была напечатана в последнем номере севастопольской газеты «Юг России», вышедшем 30 октября (12 ноября) 1920 года; в этом же номере помещен приказ генерала Врангеля об эвакуации). Обнаруженные произведения отсутствуют в Полном собрании сочинений А.Н. Толстого, они не значатся в его биобиблиографическом указателе.
Как известно, Алексей Толстой с апреля 1919 по август 1923-го года находился в эмиграции, вдали от большевистской России. Но эмигрировал он не из Крыма, а из Одессы. Каким образом статья и сказка Толстого, пребывавшего в Париже, попали на страницы крымских газет? Как вновь выявленные публикации соотносятся с известными произведениями писателя? Что нового привносят эти произведения в наши представления о творческой биографии Толстого?
На эти и другие вопросы еще предстоит ответить специалистам-литературоведам. Пока же вниманию читателей предлагается републикация сделанных находок.
1. Перечень крымских газет и журналов, выходивших в 1917—1920 годах, см.: Зарубин В.Г., Зарубин А.Г. Периодические издания Крыма (март 1917—ноябрь 1920 г.) // Крымский Архив. — Симферополь, 2001. — № 7. — С. 267 — 288; Филимонов С.Б. К вопросу о составе и содержании периодических изданий Крыма 1917—1920 годов // Там же. — Симферополь, 2002. — № 8. — С. 257—259; о дополнительно выявленной В.В. Лавровым газете «Наша сила», органе Крымского библиотечного общества, см.: Там же. — Симферополь, 2003. — № 9. — С. 138.
2. О красном терроре в Крыму см., напр.: Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей: Из истории гражданской войны в Крыму. — Симферополь, 1997. — С. 323—333; Филимонов С.Б. Тайны крымских застенков. Документальные очерки о жертвах политических репрессий в Крыму в 1920—1940-е годы. — Изд. 2-е, доп. — Симферополь, 2003; Абраменко Л.М. Последняя обитель. Крым, 1920—1921 годы. — Киев, 2005.
СТАТЬЯ А.Н. ТОЛСТОГО
«ТОРЖЕСТВУЮЩЕЕ ИСКУССТВО»
29 ноября (12 декабря) 1919 г.
Один из «козырей», чем большевики щеголяют перед Европой, — это процветание искусства в советской России. Ныне искусство — достояние всего народа. Все произведения искусства принадлежат государству. На приобретение их и на создание музеев и летучих, для провинции, выставок, правительство ассигновывает огромные суммы. Устройство республиканских праздников поручено коллегии художников. В школах введена свобода преподавания и свобода обучения.
Путь восьмивекового рабства кончен. Искусство служило королям и меценатам, подделывалось под развращенный вкус дворянского сословия и окончательно попало в золотое рабство к сытой и тупой буржуазии. Искусство вырождалось, становилось забавой. Свобода была ему нужна, как воздух.
И вот советское правительство объявляет, что искусство свободно, что за искусством оно признает все его могучее влияние на жизнь и культуру, и уничтожает материальную зависимость между творцом и потребителем, но…
Вот тут то, в сущности, и начинается большевизм… С этого «но»! В этих «но» весь их перец, все сверх-человечество. Большевики не пытаются создавать новое, сотворить идею жизни. Они поступают проще (и их поклонникам это кажется откровением) — они берут готовую идею и прибавляют к ней свое «но». Получается грандиозно, оригинально и, главное, кроваво.
Да здравствует всеобщая справедливость! Но семьи тех, кто сражается против большевиков, — старики, жены, дети должны быть казнены, а те, кто не желает работать с советским правительством, — уничтожены голодом.
Да здравствует самоопределение народов! Но донских казаков мы вырежем, Малороссов, Литву, Финов, Эстов, Поляков, всю Сибирь, Армен, Грузин и пр. и пр. вырезать потому, что они самоопределяются, не признавая власти Советов.
Это «но» — роковое и необычайно характерное. Большевики не знают созидательного «да», или сокрушающего и в своем сокрушении творческого «нет» первой французской революции. У них — чисто иезуитское, инквизиторское уклонение — «но», сумасшедшая поправка. Словно — один глаз открыт, другой закрыт, смотришь на лицо — оно повертывается затылком, видишь — человеческая фигура, а на самом деле — кровавый призрак, весь дрожащий от мерзости и вожделения.
Точно так же и с искусством получилось у них «но».
…Но искусство, теперь служащее всему трудовому народу, должно быть новым, особым. Старое искусство проедено буржуазной ржавчиной. Новый век, мировую революцию должно увенчать и славить искусство, стоящее по своим задачам, пониманию событий и пропагандной силе на уровне советской программы.
Словом, искусству дан декрет — быть, хотя и свободным, но определенным, тем, а не иным. И сейчас же, разумеется, нашлись люди, с восторгом принявшие на себя эту миссию, — это были футуристы.
Они появились в России года за два до войны (имеется в виду Первая мировая война 1914—1918 годов. — С.Ф. ), как зловещие вестники нависающей катастрофы. Они ходили по улицам в полосатых кофтах и с разрисованными лицами; веселились, когда их ругали, и наслаждались, когда обыватели приходили в ужас от их стишков, написанных одними звуками (слова, а тем более смысл, они отрицали), от их «беспредметных» картин, изображавших пятна, буквы, крючки, с вклеенными кусками обой и газет. Одно время они помещали в полотна деревянные ложки, подошвы, трубки и пр.
Это были прожорливые молодые люди, с великолепными желудками и крепкими челюстями. Один из них, — «учитель жизни», — для доказательства своей мужской силы всенародно ломал на голове доски и в особых прокламациях призывал девушек отрешиться от предрассудков, предлагая им свои услуги. (Год тому назад я его видел в Москве, он был в шелковой блузе, в золотых браслетах, в серьгах, и с волосами, обсыпанными серебряной пудрой.)
Над футуристами тогда смеялись. Напрасно. Они сознательно делали свое дело — анархии и разложения. Они шли в передовой цепи большевизма, были их разведчиками и партизанами.
Большевики это поняли (быть может, знали) и сейчас же призвали их к власти, футуризм был объявлен искусством пролетарским.
В академии и школах живописи уволили старых профессоров и назначили выборы в новую профессуру, причем каждый мог выставить себя кандидатом, но было объявлено, что если 50 проц. пройдет старых профессоров, то школу закрыть. Так в московскую школу живописи прошли футуристы. Некоторых из них я хорошо знаю, — они взялись за беспредметное творчество только потому, что не умели рисовать предметов. Союзу художников футуристов были отпущены многомиллионные суммы бесконтрольно для скупки и коллекционирования соответствующих произведений. Отпущены были также суммы на особое учреждение, где футуристы-поэты пропагандировали новое искусство. Это было кафе, выкрашенное внутри в черную краску, с красными зигзагами и жуткими изображениями. Там на эстраде поэты-футуристы и учителя жизни, окруженные девицами, бледными от кокаина, распевали хором:
«Ешь ананасы, рябчика жуй,
День твой последний приходит, буржуй».
Комиссар по народному образованию Луначарский был постоянным посетителем этого кафе.
Футуристам поручили устройство республиканских праздников. И вот, к торжественному дню, дома сверху до низу завешиваются кумачом (причем в продаже никакой материи нет, и беднота и буржуи ходят ободранные), трава и листва деревьев обрызгиваются в голубой цвет, и повсюду расставляются картоны с такими рисунками, что простой народ крестится со страху. Затем футуристам же предлагают поставить что-то около 150 памятников, — денег на революцию не жалеют.
Но здесь пришлось натолкнуться на неожиданное сопротивление. Этой весною (имеется в виду весна 1919 года. — С.Ф.) петербургские рабочие подали в Советы заявление, что футуристического искусства они не понимают и далее терпеть этого безобразия не хотят. Поэтому требуют, чтобы на предстоящих майских торжествах травы и деревьев краской не марать, оставить, как они есть — зеленые, непонятных картин не выставлять, и снять некоторые особенно гнусные памятники.
Перед такой тупостью населения большевикам пришлось сократить пропаганду нового искусства. Был снят около Николаевского вокзала памятник Софье Перовской, изображавший колонну, в два метра высотой, на ней плиту, положенную вкось, боком, а на плите — большую кучу из цемента, изображающую, должно быть, волосы Софьи Перовской. Что было дальше — я не знаю.
В то же самое время русские художники, писатели, философы и поэты, не принявшие каиновой печати футуро-большевизма (а приняли ее только двое, трое), принуждены существовать, как птицы небесные. Журналы и газеты закрыты, издание книг и типографии монополизированы правительством, картин покупать частным людям нельзя и негде, а правительство скупает только беспредметное творчество.
Искусство в России замерло. За последний год было выпущено едва, едва пять — шесть книг, и не устроено ни одной художественной выставки, не поставлено ни одной новой пьесы, даже большевистского содержания. Что делают те, кем Русская земля была горда, не знаю; про тех же, про кого знаю случайно — голодают и не работают. Трудно, действительно, работать, когда к обеду подают суп из сушеной рыбы и на второе — пюре из этой же рыбы, и это без соли и без хлеба; когда зимою при двадцати градусах мороза дома не отапливаются; или когда за неудачно сказанную остроту заставляют замолчать так же, как этой зимой навек замолчал один из замечательнейших философов и писателей — старик В.В. Розанов, расстрелянный в Троицко-Сергиевской Лавре (неточность: Розанов умер 5 февраля 1919 года от истощения. — С.Ф.).
Так вот, советское правительство объявляет расцвет русского искусства. Есть чем козырнуть перед Европой. В 1914 году на дело искусства тратилось правительством 100 тысяч рублей, в 1919 году 100 миллионов. Отсюда крайне-левая пресса делает соответствующий вывод. Европа поражена. А в Петербурге за этот год 18 членов Академии Наук умерло от голода и истощения.
Граф Ал.Н. Толстой
(Ялтинский курьер. — 1919. — № 91. — 29 ноября (12 декабря).)
СКАЗКА А.Н. ТОЛСТОГО «АЛЕНА»
30 октября (12 ноября) 1920 г.
У леса, у красивой речки, жила Алена многосемейная: шесть сыновей, да шесть дочерей у нее и немалое хозяйство.
Еще солнце не сядет за темным лесом, — на аленином дворе уже скрипят ворота, трещат вереи, и идут — кони в стойла, волы по дворам, куры на нашесты, гуси, утки в теплые клетки, овцы в овчарню, коза на погребицу, пчелы в колоды, малые дети на лавки и ложки держат.
Кони ржут, коровы мычат, куры кудахчут, коза на крыше ногами бьет, дети просят:
«Мама, есть хотим».
Спать уложит и Богу за всех помолится.
За тем же лесом, на горах Дарбалдайских, жил барин, брал с Алены оброк. Барин строгий, слуги у него злые, неподкупные и подкупные — всякие.
По воскресным дням проезжал барин от обедни, — впереди две собачки, позади два лакея с усами. Проезжая, останавливался, вылезал на траву около хаты и грозил Алене пальцем, а лакеи его под руки держали, чтобы не упал.
Так жила Алена не плохо и не особенно хорошо, — терпела.
В некотором году задумал барин оттягать лужки у соседа, тоже барина, что жил за рекой Вороной. Собрал мужиков и пошел соседа бить и деревнишки его пустошить. А сосед принялся бить и пустошить барина. И много от того мужиков было побито и животишки у них растащены. Да и барина самого поймали раз соседние холуи и били смертным боем, насилу ноги унес.
* * *
Тогда бросили мужики драться и говорят: «Чем нам лишнее зря терпеть, возьмем у барина землю, — и запашку, и сенокос, и лески — без дерева в хозяйстве не обойтись, а барин все равно битый, едва дышит. А лужки за рекой Вороной нам не нужны, — идти далеко и комар сильный».
Так взяли и приписали барскую землю к обществу, а барину предоставили жить, где хочет — в саду ли, или ехать на кислые воды.
Ходила Алена кланяться мужикам, дали и ей клочок под картошку, сказали, — «Теперь ты, дура, сама по себе, никого не бойся».
Очень хорошо. Землю вспахали, и случилась беда, откуда бы и ждать нельзя: завелся в лесу вор-атаман. Есмень Сокол с товарищами.
Стал он воровать, нарубил заставы на дорогах, кидал в народ подметные письма, грозился дурными словами.
Сама Алена слыхала: пошла раз по ягоды, но какие — не помнит, слышит — по ельнику скачут кони, проезжают верхами двое и говорят:
«Здесь на реке Вороне не будет никому места, наши молодцы все разорят, поднимется Есмень Сокол, сделает всю пустоту».
Ловили вора народом и не могли поймать. А он ночью налетел на барскую усадьбу, барину и детям его головы ссек, а кто жив остался, разбежались.
И стал жить Есмень Сокол на том месте воровским обычаем: пил, ел, грозился с Дарбалдайских гор конному и пешему, мутил народ.
Алене житья не стало от тех людей, — замки рвут, под ворота лазают, воруют, что под руку попадется, без совести; человек в нужде — ну, курочку унесет, ну — яичек в шапке, или пшенца самую малость, а эти живность мешками таскают, всю погребицу опорожнили, одна коза от воров отбодалась.
И у ворот на вереях лепят воском воровские письма.
И еще беда у Алены с детьми: старший задумался, захмурился, покоряться перестал и говорит:
«Довольно, мамка, через тебя горючих слез пролито, теперь ты от меня потерпи».
Взял пест, побил посуду, сорвал у матери платок с головы и ушел в лес к ворам.
Потом туда же сманил двух братишек, и хотя они и прибегали домой ночевать, но до того исцарапанные и в репьях, — смотреть нехорошо.
Дочери кричали:
«Сил нет в девках сидеть, замуж хотим, хоть за душегуба».
А малые дети и совсем от рук отбились.
Тогда надумала Алена взять в дом хозяина, захудавшего по случаю драки того самого барина, что жил за рекой Вороной. Позвала меньшого сына, подперлась и говорит:
«И пиши ты, Алешка, письмо: батюшка свет, кланяюсь. И прошу еще — возьмите меня с детьми замуж. А не хотится взять замуж, живите так, — хлеба на двоих хватит, слава Богу. А от этого вора-душегуба, Есмень Сокола, пришла я в разорение и пустоту, как жива только, сама не знаю».
Алешка взял письмо и побежал, как мать велела, на дорогу, на перепутье.
Видит — едет захудавший барин, руки в бока, шинель нараспашку, а сам и кучер его — голодные, лошадешки — тощие. Алешка побежал за тарантасом и подал письмо.
Барин прочитал, засопел и говорит:
«Скажи спасибо, что я и кучер мой голодные, лошадешки — тощие, а то я тут же бы огорчился матери твоей нахальством, расшиб бы тебя вишневой тростью. Кучер, поворачивай за мальчишкой».
Алена принарядилась, ждала на крыльце, и только пыль увидала, и уж кланяется: «Пожалуйте, пожалуйте».
Барин одним духом выскочил из тарантаса, уставился генеральскими глазами на Алену и говорит:
«Письмо ваше прочел и на брак согласен, только — незаконный, потому что ты, дура, моего благородства понять не можешь».
И смело зашел в хату. Там наелся, напился, усы вытер, и первым делом выпорол алениных детей всех, для порядка.
Потом ружье зарядил и пошел ночью по огородам ходить, по задворкам подстреливать. Семерых разбойников застрелил за одну ночь.
И такого страху нагнал на Есмень Сокола, — загородился тот великими заставами, залез в лес, в глушь, за бурелом, в корчевые ямы, оттуда только посвистывал.
Алена сначала не знала, как Бога благодарить: в хозяйстве порядок, скотина в теле, овцы ягнятся, куры кудахчут, шумит пшеница по всему полю. Дети ходят чистые, носы вытертые, на ночь Богу молятся.
В один день пошла Алена за зерном в амбар, а он пустой. Она испугалась и говорит об этом барину.
«Пшеницу я моему старшему брату послал за реку Ворону, — отвечает барин, — у нас в именьишке есть нечего».
В другой день пошла Алена на конюшню, а там коней нет, один козел бродит, бородой трясет по пустым стойлам. Алена заплакала и жалуется барину.
«Лошадей я моему старшему брату послал, — отвечает ей барин, — у нас в именьишке пахать не на чем».
В третий день пошла Алена в подклеть за холстом. Дверь заперта и замок висит, а внутри — пусто. Она завыла и зовет барина, он говорит:
«Не вой. По моему происхождению я этого терпеть не могу. А холстины я старшему брату послал, у нас в именьишке надеть нечего».
Повернулся и пошел табак курить, надымил полну хату.
А Есмень Сокол тем временем не дремал. По ночам начал свистать анафемским свистом, зазывал бродящих людей, собирал силу. И послал Алене подметное письмо:
«Баба, помни, — от моей петли не уйдешь. Я и под барина твоего петлю подведу. Гони его со двора чем попало. Припаси угощенье, сам приду пировать, возьму тебя, бабу, замуж, хочешь — по закону, хочешь — без закона, мне все равно».
Алена прочитала и обмерла. Барин прочитал и задумался. Походил, походил, задумчивый, небольшое время, и говорит:
«Есмень Сокола не боюсь. Петли его боюсь сильно. Возьму, что еще не добрал, уйду к себе за реку Ворону, а ты живи, как хочешь».
«Как же, батюшка, одна останусь? Лесной вор сделает мне всю пустоту», — говорит Алена. Барин ей отвечает:
«Я порядок навел, детей покорил родительской власти, справляйся со злодеем своею силою. Тебе мужики помогут».
Сел в тарантас, усы распустил по ветру, — только его и видели.
Дети разбежались, по малолетней дурости, кто по горох, кто по ягоды. Власти нет. Одна коза кричала на пустом дворе, на погребице.
«Батюшки! Бо-о-о-язно»!
Пошла Алена мужиками кланяться, чтобы вора побили. Мужики говорят:
«Можно. Нам и самим от него не жить. Только бить его нечем».
А Есмень Сокол как засвистит с Дарбалдайских гор, — воронье поднялось над лесом. Напал на Алену страх. Ушла она на речку, села и завыла не своим голосом, по реке далеко слышно.
Услыхали то белые гуси, встрепенулись на заводи, снялись и полетели, — все оглядывались на Алену, гоготали.
В то время по реке плыли охотники, зверобои, заморские купцы. Увидали гусей, и слышно им кричат гуси:
«Беда с бабой, беда с бабой Аленой».
Корабельщики повернули к берегу и стали спрашивать у Алены — зачем на всю реку воет, гусей пугает. Поклонилась Алена всем кораблям и говорит:
«Подите убейте, пожалуйста, Есмень Сокола. Скоро от него житья никому не станет».
Корабельщики отвечают:
«Хорошо. Мы и сами видим, что ты баба сырая, неумелая, надо тебе помочь».
Пошли на деревню и говорят мужикам:
«Ходите вы, мужики, совсем голые, хозяйство у вас разоренное, чем так-то терпеть, — пойдемте, вора выбьем из лесу всем скопом».
И тут же выдали на деревню тысячу рублей, для верности.
Мужики видят, — действительно, дальше терпеть нельзя, надо вора им выбивать. Пошли с корабельщиками к лесу, окружили его и кричат:
«Воры-ы, выходите, а то дымом выкурим!»
Есмень Сокол увидел большую силу, испугался и вышел из лесу.
«Здравствуйте, — говорит, — вы зачем грозитесь? Я знать ничего не знаю. Мы люди добрые, благородные, не желаете ли почитать наши подметные письма?»
Но тут его взяли за руки и посадили на цепь.
Есмень Сокол только зубами скрипнул.
А захудавшему барину за реку за Ворону послали записку, чтобы вдовье добро вернул и впредь не озорничал, а буди добра не вернет и озорства не бросит, — сидеть ему с Есмень Соколом на одной цепи.
И стали с тех пор жить мужики хорошо, крепко. А баба Алена детей всех вымыла, рубашки чистые надела, на лавки посадила и говорит:
«Помните, пострелята, страх Божий: за хозяйством смотрите, грамоте учитесь, писем подметных не читайте. А когда мне смерть приключится, — живите дружно, люди вас почитать будут».
И на радости выкинула из печки горшок блинов:
«Кушайте, дети мои родные, растите здоровые».
Гр. Алексей Н. Толстой
(Юг России (Севастополь). — 1920. — № 171. — 30 октября (12 ноября).)