 |


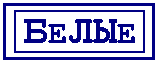
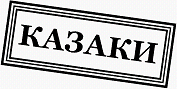
О. О. Антропов
АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО И РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.: К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КАЗАЧЬЕГО САМРУПРАВЛЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ
Альманах «Белая гвардия», №8. Казачество России в Белом движении. М., «Посев», 2005, стр. 153-155.
Проблема развития казачьего самоуправления в 1917 г., попытка становления казачьих войск как автономных субъектов новой революционной России интересна прежде всего тем, что позволяет, отказавшись от набивших оскомину спорое в рамках дихотомии «народ — сословие», посмотреть на казачество как на самобытное явление, его место и роль в революции и Гражданской войне через проблему самоидентификации, самоопределения казаков в условиях переломной революционной эпохи.
Астраханское казачье войско — одно из старейших «указных», служилых войск России — создавалось в XVIII в. ради замирения и колонизации степного пограничья, и в этой службе главная историческая заслуга астраханских казаков. Накануне революции 1917 г. астраханское казачество являлось малочисленной замкнутой привилегированной военно-земледельческой этно-сословной группой населения Нижнего Поволжья, существование которой в данном регионе, по мнению государственных чиновников, не оправдывалось уже ни военно-стратегическими, ни социально-экономическими потребностями государства.
К 1917 г. в войске насчитывалось около 40 тысяч казаков, проживавших в расположенных вдоль русла Волги от Астрахани до Саратова 20 станицах с хуторами и рыбачьими поселками. Войсковые земли, небольшими участками разбросанные на территории Астраханской, Саратовской и Самарской губернии, нигде не образовывали сколько-нибудь значительных собственно казачьих районов. При этом астраханские станицы находились, частью рядом с крупными волжскими торгово-промышленными городами (или в самих городах), частью были вкраплены среди крупных крестьянских поселений, тянувшихся вдоль Волги до Каспийского моря.
Войско, относившееся к младшим, «вторичным» войскам, создавалось сверху, государством, в основном из неказачьего служилого населения Поволжья, по образу и подобию Донского войска, и своих специфических, глубоких казачьих традиций (уходящих корнями в казачью вольницу XVI—XVII вв.) у астраханцев, по большому счету, не было.
Система административно-территориального устройства у казаков, основным смыслом существования которых являлась военная и полицейская служба, в период реформ 1860-1870 гг. и в пореформенный период не претерпела принципиального изменения. 11 казачьих войск империи, являясь существенной частью и важной опорой ее военно-бюрократической системы, представляли собой четко организованные, подчинявшиеся военному министерству жестко централизованные военно-административные и хозяйственные структуры, находившиеся под полным государственным контролем и опекой.
Во главе Астраханского войска стоял Наказный атаман (назначаемый сверху, из неказаков), сосредотачивавший в своих руках всю полноту военной, гражданской и судебной власти над станицами. По традиции должность атамана совмещалась с должностью астраханского губернатора. Астраханское войско как самостоятельная административная единица было приравнено к губернии, поэтому по войску атаман обладал правами губернатора, а в военном отношении, исходя из числа казаков, которых в случае войны астраханцы могли поставить в строй — правами начальника дивизии. В военном отношении казачьи части входили в состав армейских корпусов и дивизий, приписанных к определенным военным округам. Так Астраханское входило — в Казанский военный округ, а первоочередной 1-й Астраханский казачий полк — в состав 5-й кавалерийской дивизии (XVI армейского корпуса), расквартированной в Поволжье.
Управление войском по гражданской части сосредотачивалось в Войсковом правлении, а по военной — в Атаманской канцелярии, чиновники которых назначались атаманом и утверждались вышестоящим военным начальством. Среднее звено управления было представлено администрацией двух отделов. Атаманы и Правления отделов также назначались сверху.
Низшее звено — станицы — по традиции, идущей от времен существования вольных казачьих войск, обладали правом самоуправления «по гражданской части». Станичный сход выбирал станичного атамана, правление и суд, которые станица содержала за счет своих общественных капиталов. Однако в процессе огосударствления казачества это самоуправление последовательно сводилось на нет, и к ХХ в. было во многом формальностью, данью традиции.
Хозяйство и быт казаков, были привязаны к длительной военной службе, к необходимости быть в постоянной боеготовности, в ожидании мобилизации; при этом, коня, обмундирование, амуницию и вооружение казак обеспечивал за собственный счет. Наряду с воинской службой казаки были обложены рядом дополнительных обременительных «земских» повинностей (содержание дорог, перевозов, караульная служба и т.д.).
В начале ХХ в. казачьи войска, система казачьего хозяйства и службы, возникшие и сформировавшиеся в период стремительной территориальной экспансии и колонизации многонациональных окраин, переживали системный кризис. Сами казаки расценивали свое состояние как полукрепостное и требовали облегчения повинностей, сокращения сроков службы и числа казачьих частей, снятия жестких ограничений и регламентаций военного сословия, регулирующих всю жизнедеятельность казака. Казачье хозяйство, казачьи общины под влиянием развития капиталистических отношений деградировали, теряли свою экономическую устойчивость, способность обеспечивать свое главное предназначение — казачью службу. Набирал силу процесс внутреннего «саморасказачивания», сближения казачьего населения с мещанским и крестьянским (по образу жизни, занятиям, культуре). Процесс социально- имущественной дифференциации привел к появлению слоев своего казачьего кулачества и пролетариата - батраков, отходников.
В связи этим, идея ликвидации казачьих войск и системы казачьей службы, ликвидации казачества как сословия не раз обсуждалась российской военно-бюрократической элитой во второй половине XIX — начале ХХ вв. Однако как раз на рубеже XIX-ХХ вв. системный кризис в России, резкое обострение социально-политической ситуации, революционные потрясения актуализировали потребность в казаках, прежде всего, как в полицейской силе. И казаки действительно хорошо послужили престолу, подавляя революцию 1905-1907 гг.
Государство потратило немало сил и средств для поднятия казачьих хозяйств, укрепления войск, культивирования казачьей особости — той уникальной служилой культуры, менталитета, которые делали казаков верной опорой монархии. Однако меры эти носили паллиативный, поверхностный характер. Казачьи хозяйства не выдержали испытания Первой мировой войной. Казачьи общины, и до того пораженные недугом малоземелья, резкой имущественной дифференциацией, лишенные значительной части рабочих рук, страдали от разорения, обнищания большей части даже крепких середняков.
Вероятно, при дальнейшем развитии России по буржуазно-демократическому пути, сама логика этого развития неизбежно привела бы к упразднению казачьего сословия, растворению казачьих этно-сословных групп. Однако Февральская революция 1917 г., падение самодержавия и особенности развития российского революционного процесса создали предпосылки для уникального этапа в развитии Астраханского войска — попытки становления войска как автономного субъекта новой революционной России.
В период Февральской революции казачья старшина, занимавшая в Астраханской губернии привилегированное положение, выступила наряду с городской буржуазией и интеллигенцией одним из главных инициаторов бескровного политического переворота. Опираясь на казачьи части астраханского гарнизона, представители казачьего офицерства и интеллигенции, арестовав астраханского губернатора и Наказного атамана, прежнюю войсковую и губернскую администрацию, приступили к организации губернской и войсковой жизни на новых, революционных началах. Казачьи представители заняли лидирующее положение в губернской общественно-политической жизни, возглавили новые губернские органы власти.
На внутривойсковом уровне, казаками уже в первые революционные дни был сделан шаг к «восстановлению» изначально не существовавших у астраханцев демократических институтов вольного казачества и организации своей самостоятельной казачьей власти (формирования самоуправления на уровне войска). Уже 4 марта в Астрахань были созваны представители от станиц и полков войска на экстренный казачий Круг. Делегаты постановили не позднее начала апреля созвать Большой Войсковой Круг, который, как казачий парламент, должен был стать высшей законодательной и исполнительной властью в войске. Главой исполнительно-распорядительной власти должен был стать избираемый Кругом Войсковой атаман.
Первый большой Астраханский Круг прошел 7-14 апреля 1917 г. Председателем Круга и Войсковым атаманом казаки избрали видного представителя старшины Т.А. Соколова. Круг утвердил предложенный атаманом новый состав Войскового правления и Атаманской канцелярии, атаманов отделов и состав правлений отделов, основы местного самоуправления, сроки созывов казачьих Кругов и службы выборных лиц на войсковых должностях. Позднее, на 2-й сессии Войскового Круга (15-22 июня) делегаты утвердили состав высшего органа законодательной и исполнительной власти на период между созывами Кругов - Совет Войскового Круга.
В течение марта у астраханцев прошли выборы новых станичных атаманов и реорганизация станичной администрации на основах широкого самоуправления (станичные правления упразднены, организованы исполкомы); казаки отказались от несения полицейской службы, даже в собственных станицах.
С первых шагов становления новой казачьей власти, среди казаков обозначилась тенденция на обособление от неказачьего населения, недопущение вмешательства в жизнь войска и станиц неказачьих органов власти (как советских, так и Временного правительства). Казаки однозначно выступали за сохранение войска как особого автономного образования в составе России.
Определяя свою политическую позицию, казачьи съезды принимали резолюции об оказании полной поддержки Временному правительству и войне до победного конца, приверженности идее Всероссийского Учредительного собрания. Самым болезненным вопросом для всех кругов весной-летом 1917 г. был земельный вопрос и связанный с ним вопрос отношений с крестьянским, иногородним населением. Казаки выступили резко против идеи уравнения с крестьянским населением и уравнительного передела земель. Наоборот, станичники требовали увеличивать, прикупать земельные наделы, отбирать в пользу станиц частные, монастырские земли, участки, арендованные иногородними.
Таким образом, астраханское казачество, в целом, положительно приняло Февральскую революцию как изменение, отвечавшее его собственным потребностям (ожидая решения своих наболевших проблем — облегчение службы, увеличение земель, ликвидация сословных ограничений, при расширении прав и привилегий); решительно выступило за демократизацию страны, расширение самоуправления, отказ от полицейских функций; проявило себя последовательным сторонником буржуазно-демократического лагеря. Казаки заявили себя как сторонники демократической федеративной республики, при широкой автономии казачьих войск в составе России.
Вместе с тем, астраханцы, ощущая себя частью привилегированной замкнутой этно-сословной казачьей корпорации, с первых же шагов приняли активное участие в организации общеказачьей общественно-политической жизни, участвовали во всех общеказачьих съездах, создании Совет Союза казачьих войск; поддерживали идеи создания особой казачьей государственности, казачьей армии, пытаясь выступать и как представители особого народа, со своими особыми от других народов России интересами. Но наиболее важным направлением деятельности для астраханцев было налаживание контактов и формирование Союза казачьих войск юга России, основной задачей которого казакам виделась борьба с анархией и большевизмом, доведение России до Учредительного собрания во имя создания демократической республики.
Летом 1917 г. казачья старшина дистанцировалась от неказачьих проблем, сосредоточившись, прежде всего, на внутривойсковой и общероссийской казачьей жизни. В казачьей среде, в целом, возобладало стремление к сословной замкнутости, консолидации с представителями других казачьих войск, освобождению от тяготящих обязанностей и функций служилого сословия, при сохранении преимуществ и привилегий, увеличении земельных владений. Вместе с тем, обозначилось и нарастание противоречий между казачьим и крестьянским населением региона, внутрисословные противоречия — между консервативной старшиной и казаками старших возрастов; радикально настроенными фронтовиками и молодежью, между зажиточными и беднейшими слоями.
Становление казачьего самоуправления в период двоевластия сопровождалось периодическими конфликтами городских (а затем и сельских) станиц с местными Советами, требовавшими от казаков признания власти неказачьих исполкомов, присылки в их состав делегатов от казаков, подчинения их решениям по земельному, продовольственному и другим вопросам.
Однако наиболее важной и опасной для войсковой верхушки проблемой была поддержка казачьими частями Советов солдатских депутатов. При этом, здесь, как и в других важных политических вопросах, казаки занимали противоречивую позицию. С одной стороны, казачьи полки сохраняли дисциплину, лояльность правительству и командованию и соглашались даже выполнять роль своеобразных заградотрядов в период июньско-июльского наступления, занимались восстановлением порядка в пехотных частях. С другой стороны, попытки казачьей старшины, войсковых органов власти отозвать из Советов казачьих делегатов встречали жесткое противодействие строевиков. Только в августе по примеру Донского войска, астраханской старшине удалось решить эту проблему (прежде всего при опоре на казачью спайку, корпоративность, апеллируя к «голосу всего казачества»). Т.е. идея сохранения сословного единства была чрезвычайно сильна среди станичников.
Осенью 1917 г., в условиях нарастающей анархии, разрухи, казаки с одной стороны, в пику своим прежним настроениям приняли решение поддерживать порядок в Астрахани силами казачьих частей, с другой — на практике, все больше игнорировали не только советы, но и местные административные органы Временного правительства. Наиболее популярной среди астраханцев становиться идея своей особой «казачьей» политической линии.
В конце сентября - начале октября 1917 г. на проходившем в Астрахани очередном Большом Войсковом Круге среди делегатов от полков и станиц войска преобладали консервативные, «казакийские» настроения. Казаки заявили о поддержке донского атамана А.М. Каледина и «правого» политического курса Донского войска. Председателем Круга был избран лидер астраханских кадетов, присяжный поверенный Н.В. Ляхов, Войсковым атаманом — лидер консерваторов генерал-майор И.А. Бирюков. В условиях развала государственности и нарастания центробежных тенденций, избранный делегатами Совет Войскового Круга (а реально - выделенный из его состава Малый совет) был наделен всей полнотой власти по войску. При этом, выступая за создание казачьей республики, делегаты защищали тезис отказа от поддержки какой-либо российской партии (включая кадетов) — «казаки вне политики».
В ответ на захват государственной власти большевиками в октябре 1917 г., Войсковое правительство, созданное атаманом Бирюковым на базе Войскового правления, не признав большевицкий Совнарком, заявило о поддержке Временного правительства и взяло курс на фактическую независимость Астраханского войска. 20 октября астраханцы вошли в сформированный донским атаманом А.М. Калединым антибольшевицкий «Юго-Восточный Союз» — военно-политический союз казачьих войск. Кроме того, по соглашению с донской верхушкой, калмыцкой знатью и интеллигенцией (как часть программы создания антибольшевицкого военно-политического союза на юге), в ноябре-декабре 1917 г. в Астраханское войско было принято около 160 тысяч астраханских калмыков, на правах федератов, с сохранением внутренней независимости калмыков по гражданской части, при «военно-административном» единстве (один Войсковой атаман, один Войсковой штаб, созданный из атаманской канцелярии, два помощника атамана (по коренной и калмыцкой части), два Войсковых Круга и правительства. Основной целью этого союза для калмыков являлось объединение в одно целое астраханских, ставропольских (а в перспективе и донских) калмыков, их оказачивание (как наиболее приемлемая форма национального объединения и самоопределения в условиях революции) и совместная борьба с большевиками. Для казачьей верхушки принятие калмыков в войско было единственной возможностью укрепить свои позиции в Нижнем Поволжье и в Юго-Восточном Союзе.
Декабрьский экстренный Войсковой Круг, констатировавший растущий конфликт с неказачьим населением, угрозу казачьим землям и привилегиям, заявил о решимости начать вооруженную борьбу с Астраханским ВРК, требующим ликвидации войска и признания казаками Советской власти. Войсковое правительство приступило к подготовке вооруженно- го выступления казаков и калмыков с целью уничтожения Советов в Поволжье. Но, когда дело дошло до открытого столкновения, большинство казаков отмежевалось от атамана и правительства, объявив о признании Советской власти на условиях неприкосновенности казачьего уклада и хозяйства.
Во время так называемого казачьего мятежа 11-24 января в Астрахани на стороне войскового правительства выступил только полк стариков-добровольцев низовых станиц, две роты астраханской офицерской организации, казачья батарея (переукомплектованная офицерами), и около батальона «вольных казаков» - жителей Астрахани (в основном - учащейся молодежи). Общая численность добровольческих частей восставших не превышала 1500 человек. Калмыцкая часть войска к этому времени существовала лишь на бумаге. После двух недель кровопролитных уличных боев восстание было подавлено. 26 февраля 1918 г. в соответствии с решением «крестьянского съезда Астраханской губернии от 15 января» и постановлением Астраханского губисполкома от 20 февраля, по приказу председателя Астраханского ВРК есаула М.Л. Аристова, Астраханское войско (учреждения и полки) было ликвидировано, а его население «обращено в гражданское состояние».
Таким образом, история казачьего автономизма для астраханцев, по большому счету, ограничилась лишь кратким периодом революции 1917 г. Выбор казачьих низов в пользу саморасказачивания в условиях революции и Гражданской войны был неизбежным и закономерным, а любые попытки верхушки защитить особую казачью политическую линию, сохранить казачью этно-социальную обособленность были обречены на провал. Идея особой казачье-калмыцкой республики (на определенном этапе поддержанная станичниками, исходя из необходимости защиты собственных социально-экономических интересов) была отвергнута большинством казаков и калмыков уже в начале 1918 г.

Первый войсковой атаман И.А. Бирюков

Войсковой атаман князь Д.Д. Тундутов

Войсковой атаман Н.В. Ляхов, 1919 г. (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т.5. Берлин, 1926)

Начальник Астраханской казачьей дивизии, генерал-майор В.З. Савельев, 1919 г.