 |


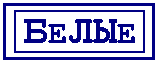
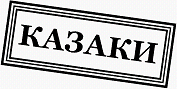
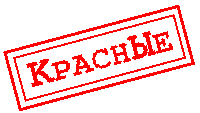
Р.П. Чубарева-Завольская, директор музея истории г. Оренбурга
КОНЬ РОНЯЛ СЛЕЗУ...
Альманах «Белая гвардия», №8. Казачество России в Белом движении. М., «Посев», 2005, стр. 212-213.
С высоты времени стало понятно, кому и для чего нужна была октябрьская бойня. В водоворот событий страну ввергли люди с амбициями фараонов... Только те, кто никогда не вырастил дерева, никогда не засеял пшеничное поле, мог рушить ради власти весь мир. Огнем и мечом прошла революция по стране. Один из участников говаривал: «Есть у революции начало, нет у революции конца». А ведь так и есть: гражданская война сразу после революции, вторая мировая война, события в Румынии, Чехословакии, на Кубе, потом Афганистан, Чечня... Воистину, нет у революции конца!
...В окно постучали кнутом. Ванечка встрепенулся: это тятя!.. Встревожились все: бабушка Евдокия, внучки Евгения и Груня. Позвали хозяина — Якова. Долго он не возвращался. Потихоньку домочадцы стали выходить во двор. Запричитала бабушка... на попоне в телеге лежал ее сын Василий — молодой казак. Убили красные. Новое слово... жуткое слово.
Ванечка остался без отца, а вскоре умерла и мать.
Груня (моя мать), а было ей лет восемь, запомнила одну деталь — конь склонился над лицом хозяина, а из огромного глаза катилась слеза. Когда она об этом говорила, сама всегда плакала.
Синеглазый, с черными, как смоль кудрями и румянцем во все щеки казак Василий был участником Первой мировой войны, как и все его братья: Яков (мой дед), Степан, Кузьма, Антон (двоюродный брат деда).
У всех трагическая судьба. Степан умер от тифа сразу после войны, Василий убит красными, Яков — коваль казачьего полка — стал колхозным конюхом, Антон — председателем колхоза после репрессированного первого председателя Марка Сафоновича Фоменко, а третьим был сын Степана - Федор — участник уже Второй мировой войны.
Мало мы знаем об истинной истории — не рассказывали родные, боясь обвинений за казацкое прошлое. Были спрятаны шашки, фотографии и даже в биографии казачье прошлое упускали. Только сейчас по крупицам воссоздают картину Гражданской войны, коммуны (1929 г.) и коллективизации в моей родной деревне — Верхней Кардаиловке Кваркенского района Оренбургской области. Моими собеседницами бывали при встречах тетки Евгения, Екатерина, Анна - дочери братьев Якова, Степана, Григория. Три сестры ушли в мир иной в один 2001 г., друг за дружкой: мама в 90 лет, Екатерина в 80, Анна в 70 лет. Теперь некого спросить — ушло поколение свидетелей тех непростых, полных горя и лишений лет.
...Василия Семеновича похоронили у церкви. Советская власть еще не нагрянула в деревню. Деревянная церковь стояла в центре села. Далеко был виден купол из поймы Урала, куда бегали мы за кисляткой (щавелем), клубникой, цветами. В один из моих приездов в 1993 г. тетя Евгения рассказала о Василии Семеновиче и говорит: «А ты пойди к церкви, там колышек от креста!..». Боже мой, никто ни разу мне не сказал, что он похоронен у церкви, мимо которой я бегала в школу. И вот теперь, когда от церкви осталась груда кирпича от фундамента, когда она сгорела уже в 1970-х, узнала такую историю. У церкви всегда хоронили достойных. В советское время в церкви был клуб, потом зернохранилище, от могил ничего не осталось. Мы их затоптали. И колышка не осталось!..
...На горе недалеко от школы стоит с 1933 г. памятник, обнесенный железной оградкой. Здесь покоится прах красного партизана Семена Григорьевича Кравцова, двоюродного брата моего деда.
Так вот расходились пути-дорожки казаков. Семен Григорьевич воевал против Дутова, получил два ордена, был направлен в Оренбург на курсы красных командиров. Воевал на Туркестанском фронте, затем в Сибири, был ранен. Уже тяжелобольным туберкулезом вернулся домой и был похоронен у дороги, ведущей в село. Такая вот история. Смерть сравняла всех: и белых, и красных.
Прабабушка Евдокия прожила около ста лет. Уже слепую я водила ее на погост через ковыльную степь. Она голосила за сыном Степаном и внуком Николаем, умершим в 1939 г. после действительной службы в Красной армии от простуды. О том, что у церкви похоронен другой ее сын, она тоже не говорила: боялась — он был белым!
Пришла перестройка, и мы кое о чем узнали правду, хоть и поздно, да и то не всю.
Молодежь часто и не понимает — почему даже есть такой государственный праздник — примирение? Им невдомек, что мириться надо тем, кто случайно оказался с красными или белыми в этой неразберихе, называемой революцией. Кто знал, где правда?
Думаю, лучше всего знали это труженики полей — как мой дед Яков Семенович, казак и хлебопашец: «Вот бисевы диты воюють. Надо хлиб сеять, робыть надо, а воны то били, то красни, то ще зэлэны» (были ведь и такие!). Забирал коней (чтобы не взяли в обоз) и уезжал на речку Гусиху, где была его земля, на которой росли пшеница, овес, горох. Трудился не покладая рук, того требовал и от детей. Возили излишки на ярмарку, покупали нужный товар. Хоть и не богато жили, но не голодали, как в советское время в 20-30-х, да и 40-х гг.!
О том, что никто не понимал, зачем и с кем нужно воевать, говорит такой эпизод. 1918 г. Наступали то красные, то белые со стороны Челябы. В селе женщины сидели по домам, а дети а подполе. Пить, есть надо, кончились запасы воды — брали ее с Урала. Кому идти? Пошли старая бабка да малая Евгения. А на реке наступление, пушки палят, снаряд ударил в скалу. Преодолевая страх, набрали воды и увидели бегущих красноармейцев. Возвращаются, а бабка кричит снохам: «Жинки, жинки, бачили мы тех красних, воны такие же люды, як мы, тильки балакают по-русськи!»
А спросили бы тогда казака любого — нужна ли была им революция, потом коллективизация? Ведь они работали на себя. А в колхозе от зари до зари за палочки - трудодни вообще не платили. А жили на то, что сажали картошку да огород. 10 часов на государство, а остальное — на себя. Так как им было лучше? А людям навязывали то революцию, то Гражданскую войну, когда брат пошел на брата.
В Кардаиловке устроили коммуну, обобществили скот, устроили в церкви столовую — не сыт, не голоден, дома шаром покати. Потом продразверстка: выметали у сельчан все сусеки до пылинки. Участвовал в этой кампании и мой дядя. Бабушка Анисья говорила: «Сынок, что вы робите, ведь весной люди с голоду будут умирать!» он отвечал: «Мама, так надо!» а весной и начался страшный голод, ели лебеду, корни, пухли, умирали. Сеять было нечем, потому и следующий год тоже был голодным. Сам продразверстчик просил сестру: «Дай гороху! Я знаю, мама спрятала мешок». Сестра отсыпала тайком из кармана. Горох готовили так: варили, потом жарили — жуешь по горошине и голод не чувствуешь. Вот так грандиозные дела коммунистов оборачивались бедствием народным.
Потом коллективизация началась. Загоняли в колхоз. Так и говорили сельчане: «Когда нас загнали в коммуну», или «Когда сгоняли в колхоз» деваться некуда - шли. Прятали фуражки, шашки, знаки отличия. Боялись слова «казак». Дед припрятал шашку на чердак, а подросшие внуки нашли и на заднем дворе стали рубить бурьян: вжик-вжик. Дед обезумел, увидев рубак. Отобрал шашку и переломил через колено: «Нэма казакив!» из обломков шашки сделал два ножа, загнутой частью резал из кожи вожжи.
Некогда богатое село с добротными деревянными домами стало хиреть, но особенно подкосило его освоение целины, когда перенесли центральную усадьбу ниже по Уралу. Сейчас главная улица представляет жалкое зрелище: дома без окон, или на месте некогда красивых домов с резными ставнями, крылечками — груда золы, камней и кирпича.
Раскулачивание в нашей Кардаиловке — это еще одна горькая страница и другая история. О ней надо говорить отдельно.
Оренбург, декабрь 2002 г.