 |

Павел Ясеница
ЗАПИСКИ О РОССИИ
«Новая Польша», 2008, №1, стр. 3-7.
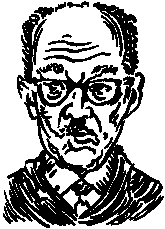
Павел Ясеница
«Записки» (Варшава, «Прушинский и Ко», 2007) стали последним произведением автора «Польши Пястов», «Польши Ягеллонов» и «Речи Посполитой Обоих Народов». Он стал писать их в начале 1970 г. и не закончил — в том же году он скоропостижно скончался. Но Ясеница успел написать о детстве, о России, где он родился в 1909 г. и где был во время исторических событий — февральской и октябрьской революций, гражданской войны. Мы выбрали из только что вышедшей книги отрывки, рассказывающие о событиях 1917 и следующих лет, как они сохранились в памяти ребенка, ставшего выдающимся историком.
Это было, должно боль, к вечеру: сверху на стол уже падал сильный свет керосиновой лампы, но нас с братом еще не загнали в постель. А может, родителям было тогда не до этого? Склонившись над какой-то бумагой, то ли письмом, то ли газетой, они ожесточенно спорили. Мне запали в память их слова, касавшиеся таинственных дел — замерзшей реки, проруби возле моста, чьей-то калоши, оставшейся на льду.
Сегодня мне легко расшифровать значение этих отрывочных воспоминаний, безошибочно подогнать тот вечер к хронологии событий, повсеместно признанных историческими, — даже такими, которые «потрясли мир». А было это попросту в самом начале 1917 г., в какой-то из первых его дней. Польская интеллигентская пара, жившая в поселке Максатиха Тверской губернии Российской империи, так и сяк разбирала только что полученное известие о насильственной смерти Григория Распутина. Старый порядок разваливался сам собой. (...)
Я не запомнил вообще ни единого факта, связанного с октябрьской революцией. Довольно хорошо помню, как разразилась мировая война: тянущиеся на вокзал толпы запасников, устроенный на другой стороне улицы госпиталь для раненых, слава донца Кузьмы Крючкова, который совершил какие-то легендарные подвиги, едва успела начаться война. Великое историческое событие, наступившее тремя с лишним годами позже, совсем не зацепилось в моей детской памяти. Только много месяцев спустя и в совершенно другом захолустье бывшей империи мне предстояло узнать, как звучат винтовочные выстрелы. А в такого рода звуки мальчик, с наслаждением игравший в оловянных солдатиков, вслуши- вается внимательно. Не было случая, отсутствовали эти звуковые эффекты, пока мы жили в глубине России, вдали от более крупных городов.
Март 1917 г. (революция, известная под названием февральской, которая свергла царизм) принес нравственное потрясение, опьянил лозунгом свободы, в октябре в Петербурге было выиграно энергичное состязание в борьбе за власть. Меня вовсе не удивляет, что я не запомнил никаких отголосков этого события.
Уже после заключения Брестского мира, где-то летом 1918 г., у нас неожиданно объявился младший брат матери, Владислав Малишевский. Он служил в царской армии в качестве офицера запаса, а во время отступления из-под Горлице был ранен в ногу и попал в австрийский плен — сидел в Будапеште, остался жив и здоров, но наголодался. (...)
В Рыбинске и Ярославле — не говоря уже о Москве и Петрограде — шли тогда бои, было тяжело и страшно. На Путиловском заводе даже прошла первая в истории советского строя забастовка. Историография детально обсуждает эти факты, забывая, что тогдашняя Россия состояла по меньшей мере на восемьдесят процентов из таких Максатих или еще более глухих населенных пунктов. Потому что у нас в Максатихе была хотя бы железная дорога. В ней не нуждался и на здешней станции наверняка не останавливался знаменитый бронепоезд Льва Троцкого. В эти края не добрался никакой Юденич, Колчак или другой белый генерал из тех, что наступали с имперских окраин по направлению к центру государства. Чешские легионеры без особого энтузиазма действовали в окрестностях... экзотической, но тоже далекой Самары.
Завершилась мировая война, финалом которой стали целых две русские революции. На протяжении всего этого времени никто не мешал мне удить рыбу под железнодорожным мостом в Максатихе и свободно разгуливать по ее деревянным тротуарам. Не было, видно, необходимости выставлять тут любых, белых или красных, караульных.
Глухая провинция коренной России приняла новый строй безучастно. Мужик охотно взял барскую землю и «вгрызся» в свое хозяйство. (...)
Я читаю о военном коммунизме, о немилосердных реквизициях продовольствия, которые велись по деревням уже в 1918 году. И не спорю, отнюдь не спорю. Хочу только сказать, что нам, людям, не владевшим никаким имуществом, ничто не мешало вести в ту пору вполне сытую жизнь. При этом не приходилось продавать отцовский рояль или мамины брошки и кольца.
Важнейшее мое свидетельство перед лицом истории, — это повторить, что, пережив в глубине России обе революции, февральскую и октябрьскую, первые выстрелы и взрывы ручных гранат я услышал только в 1919 г. на Украине. В обоих случаях я жил в глухой провинции.
Мы уехали из Максатихи в конце лета или ранней осенью. Мир продолжался уже несколько месяцев, и можно было легально пересечь демаркационную линию, или границу. Она пролегала тогда близ Орши, к востоку от нее. Проверять наш багаж и документы пришел молодой неразговорчивый немецкий офицер, туго затянутый в серый мундир, несгибаемо прямой, идеально выбритый и вымытый. Я вытаращил глаза, потому что такого вояку на пружинках еще не видал. Так же, как и широких, в мою тогдашнюю ладонь, штыков на винтовках его эскорта. Поведение немцев было безукоризненным, обыск — поверхностным. Ценности, зашитые в мою рубашку, благополучно пересекли границу государств и систем.
Позже мне несколько раз пришлось познакомиться с так называемыми репатриантскими поездами, однако ни одно из моих путешествий не прошло в таких же комфортабельных условиях, как та поездка из Максатихи в Оршу, в революционной, уже большевистской России. Ехали мы, правда, в товарных вагонах, но в чистых, целиком приспособленных под перевозку людей. По обе стороны — деревянные нары, сразу же застланные сенниками, возможность расставить вещи, готовить еду на примусах, умеренное число пассажиров на один вагон. По пути — никаких конфискаций, нападений, грабежей или других подобных неприятностей, о голоде и говорить не приходится. Один из наших попутчиков, старый холостяк, вызывал всеобщее веселье, умеряемое лишь нормами этикета: с утра до вечера он почти все время что-то себе стряпал и ел. По дороге заболел брат, на ноге у него образовалась большая язва; в городе, где поезд остановился на несколько часов, ему немедля сделали операцию, причем хорошо, без всяких осложнений. По всей видимости, медицинская служба продолжала работать, и, пожалуй, безотказно.
Из всех этих мелочей, похоже, вытекает, что не сразу, а может быть, не везде сразу наступили хорошо известные революционные трудности, пресловутое «хождение по мукам». Так никогда и не было вполне достоверно доказано, что этих мук нельзя было избежать или хотя бы сделать их не такими страшными. Можно широко применять известные слова Гоголя об унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла.
Таким образом, я уехал из России, пожалуй, уже навсегда, что вроде бы гарантирует мой нынешний возраст. Из нее я вывез на запад достояние в виде искренней симпатии к русскому народу. Это чувство, спешу подчеркнуть, совершенно не зависит от оценки политических порядков, действовавших в разные времена в этой обширной стране, и от их нравственных последствий, которые приводят к тому, что при любом строе у слишком многих русских совесть кончается там, где начинаются государственные интересы. (...)
Во время войны в Максатиху начали прибывать беженцы и переселенцы с земель, оставленных русскими войсками. Вместе с ними приехала единственная еврейская семья и поселилась по соседству с нами. Люди из нашего городишки заинтересованно глазели на представителей совершенно неизвестной им национальности.
И вот в Максатихе на Волчине — любопытство, сочетавшееся с доброжелательностью к жертвам войны, а в Киеве на Днепре — погромы, организованные черносотенцами, «Союзом Михаила Архангела». Я бы наверное не вывез из Максатихи приятных воспоминаний, если бы поляки составляли там многочисленную группу, а особенно если бы они монополизировали какую-либо область заработков. (...) Мы приехали из России на Украину, чтобы очутиться поближе к отцу матери, моему деду Виктору Малишевскому.
Уехав из Франции, он служил железнодорожником на южных линиях империи. В надлежащее время он обратил свою пенсию в капитал и, располагая вдобавок сбережениями, стал действовать на свой страх и риск. Небольшой суконной фабрики в Чаплинке его лишило наводнение, зато огромная паровая мельница в Порадовке под Киевом, оснащенная динамо-машиной и рассчитанная на работу в промышленных масштабах, оказалась неиссякаемым источником денег. Самое сердце черноземной Украины, а в радиусе многих верст — никакой конкуренции, кроме ветряков. Война и перевороты не только не нарушили процветания, но еще его усилили.
Дед жил в Боярке — населенном пункте, который от упомянутой Порадовки отделяла только речка Гнилой Тикич, протекавшая в густых зарослях камыша. Дед не имел ничего общего с землевладением или иной помещичьей собственностью, но крестьяне, несмотря на это, называли его между собою не иначе, как «пан». Поэтому наша троица была «панскими внуками». При немецкой оккупации там тоже случались волнения. Я был свидетелем только одного ночного грабительского налета, при каком-то из следующих отец лишился обручального кольца. Когда с течением времени становилось всё хуже, крестьяне из Порадовки обратились к нам с предложением помочь. Старый «пан» перебрался к одному из местных и стал жить там постоянно. Каждый вечер к нам являлись из деревни два молодца — поочередно сменявшийся караул. Они потребляли миску яичницы, обильно запивая ее самогоном, после чего укладывались спать на соломе в избе. Винтовки они держали под рукой, гранаты — видимо, из осторожности — раскладывали на столе.
Оригинальным образом сложились отношения между зажиточным польским «паном» и местными «резунами». Ибо надо помнить, что окрестности Тараши, Сквиры и Белой Церкви издавна пользовались славой самых грозных на всей Украине гнездилищ гайдамаков. (...)
Раздумывая над происхождением истинной дружбы, которая связывала старого «пана» Малишевского с окрестным крестьянством, я прихожу к простому выводу. Родившийся в Нанте от матери-бретонки, воспитанный во Франции и сам наполовину француз, дед относился к соседям не на сарматский манер, а на французский. Человек вспыльчивый и жесткий, он умел хорошо блюсти собственные интересы, но такое же право признавал за всяким другим. Практическое применение якобы бесплодного — ибо чисто формального — принципа гражданского равенства на сей раз каким-то образом оказалось плодотворным, причем в смысле жизни или смерти.
Дед Виктор принадлежал к ярым дрейфусарам. Дело Дрейфуса он принимал так близко к сердцу, будто жил не у Гнилого Тикича, а по-прежнему у Луары, в своем родном Нанте. Вероятно, в связи с этим я не слышал о конфликтах с евреями, которые составляли подавляющее большинство населения Боярки. Бухгалтером на мельнице был некий Нухим. Дед часто бранил его за нерасторопность и ошибки, но никогда — за происхождение. (...)
Революция обещала раз и навсегда покончить с антисемитизмом, включить его в разряд худших преступлений. Она запретила употреблять слово «жид», которое [в отличие от польского языка] по-русски имеет оскорбительный оттенок. Известный, до некоторой степени официально признанный тезис о том, что внутренние враги царской России — это «поляки, жиды и студенты», не только не унижал представителей первой и последней из поименованных групп, но даже возвышал их в собственных глазах. Со второй дело обстояло совершенно, ну просто совершенно иначе. Этот член тезиса плавал в соусе презрения.
И гонимые поддержали то политическое течение, которое обещало ликвидировать это клеймо, позабыть о нем... Это было в порядке вещей.
Царские порядки, они же идеалы, нашли защитников. Их численность не оправдывала размеров и характера репрессий, обрушившихся на пассивную массу, — русские эмигрантские историки считают, что в движении сопротивления большевикам участвовало лишь пять процентов царских офицеров. Однако же те, что действовали, вытворяли такие вещи, которые меня лично склоняют к определенному выводу. Гитлер и Гиммлер не должны считаться первыми в ХХ веке творцами и исполнителями программы «Endlösung», окончательного решения еврейского вопроса. Роль первопроходцев причитается кому-то совсем другому — к сожалению, братьям-славянам.
В самом начале лета 1919 г. Таращу заняли войска генерала Антона Деникина. Снова засияли пресловутые золотые погоны. Они были предметом такой ненависти большевиков, что только безумец мог бы тогда прорицать их триумфальное возвращение в Россию, к тому времени уже запредельно красную. Кто это сказал: «Уста мудреца не произносят слова «никогда»»?
В те времена считалось аксиомой, что евреи обо всем узнают заранее. В согласии с этой теорией лучшим предзнаменованием наступающих перемен были кучки иудеев, таинственно шепчущихся на тротуарах и под стенами домов. В ту субботу еврейское всеведенье оказалась легендой — у них не хватило даже обыкновенной осторожности, умения предвидеть на шаг вперед. В прекрасный теплый день на тротуарах было полным-полно прогуливающейся еврейской публики. С утра жители Таращи глядели, как проходят войска. Долго тянулись обозы или какие-то другие конные упряжки под эскортом пеших казаков, видимо кубанцев, потому что часто наряженных в широкополые фетровые шляпы. Уже под вечер из-за поворота, за которым несколькими месяцами раньше исчезали немцы, выехал крупный отряд обмундированной единообразно, по-старому образцу кавалерии. Над первым эскадроном развевалось трехцветное, сине-бело-красное царское знамя. Все началось мгновение спустя — крики бешенства и отчаяния, убегающая толпа, а за ней голубовато посверкивающие сабли.
Мы жили на одной из лучших улиц городка, но расположенной вблизи окраины, как раз на пути всяческого вступления и отступления войск. Главный, парадный вход вел к нам прямо с тротуара, и родители открыли дверь, куда успели протиснуться тридцать с чем-то человек. Понятия не имею, каким образом это осталось незамеченным: вероятно, погромщики чересчур занялись теми из убегающих, кто остался сзади. Разъяренный человек многое может прозевать, особенно если ему самому совершенно никакая опасность не угрожает.
Была в нашей квартире небольшая комната, которую мы с братом называли «Камчаткой», потому что зимой там бывало холодно. Единственное ее окно выходило в маленький садик, непроницаемо заслоненный высоким и плотным дощатым забором. В этой каморке и укрылись беглецы, после чего усилиями всей нашей семьи к двери был придвинут шкаф. Отец еще успел быстро побежать через двор во вторую половину дома — ее занимал домовладелец, еврей по фамилии Кременчугский, уже пребывавший со своим семейством в вышеупомянутой «Камчатке», — и повесил там крест и католическую икону. Совершив эти действия, родители широко распахнули все окна, выходящие на улицу, и в наступающих сумерках осветили квартиру, зажгли все до единой лампы. Надо было создать видимость, что никто в этом доме не боится благородных завоевателей Таращи, более того — встречает их с радостью. Мама присела на подоконнике, отец вышел на улицу и торчал на тротуаре. Всяких проверяющих и допытывающихся надлежало держать как можно дальше от набитой людьми комнатушки, загороженной шкафом.
О сне не могло быть и речи. Состояния собственных нервов я как-то не припоминаю, зато долетавшие сблизи отголоски... Я узнал, как визжит человек, которого убивают холодным оружием. И какой ужасающий, ни на что не похожий звук издает большое зеркало, если по нему заехать окованным прикладом винтовки. (...)
К полякам деникинцы относились холодновато-сдержанно, но не враждебно. Еще не было известно, как поступит Пилсудский, существовала надежда — скорее расчёт — на сотрудничество с ним. По отношению к другим нерусским национальностям политика Добровольческой армии на Украине была определена вполне четко: для евреев — ножи и тому подобные орудия, для крестьян, которые уже давно посжигали имения и позабирали усадебную землю, — нагайки. Казни через повешение и расстрелы происходили своим порядком — в Тараще, к счастью, не публично. И так до самой осени белая Россия сверхуспешно сама себе копала могилу.
Уже порошил снежок, было мокро и холодно, когда я в одиночестве отправился на загородное шоссе поглазеть на тянувшуюся с противоположной стороны армию. Молчали обозники на возах, ездовые и наводчики при орудиях, живописно, но мрачно выглядели фигуры кавалеристов в папахах и длинных шинелях. В седлах они сидели, как вросшие, а грозными были уже только с виду. Разбитые части Деникина отступали на юг. Сразу же, кажется на следующий день, мы глядели на ободранные и пестрые, сурово марширующие батальоны Красной Армии.
Немедленно началось сведение счетов со сторонниками только что свергнутого порядка, а то и с теми, кто почему-нибудь им не нравился. На стенах появились плакаты, большевики умели позаботиться о пропаганде. Одни картинно изображали жестокости белых — я по сей день помню фотографии чудовищно распухших человеческих тел, иссеченных вдоль и поперек шомполами. Другие плакаты демонстрировали отличную графику. Имелся и такой, где была представлена кучка отощалых фигур, пригнутых к земле подошвой кованого сапога. Надпись гласила: «Рабочие! Ваши жены и дети стонут под солдатским сапогом Пилсудского». (...)
Пребывание деникинцев в Тараще — это единственный фрагмент воспоминаний о тех временах, который я способен прочно привязать к хронологии, да и то благодаря позднейшему чтению. Наступления и отступления Добровольческой армии достаточно точно описаны историками, в энциклопедиях тоже легко найти даты. Всё остальное пересыпается в памяти, как стеклышки калейдоскопа, создавая картину мерцающую, красочную и богатую, но поистине не очень-то веселую.
С осени 1918 до весны 1920 г. власть в Тараще сменялась многократно — взрослые уверяли, что где-то около сорока раз. Временами средь бела дня начало смены власти объявляла пулеметная очередь или взрывы гранат где-то на окраинах. В другой раз перестрелка начиналась глубокой ночью и в самом центре. Это означало, что часть гарнизона поменяла политические убеждения. Утренний свет позволял увидеть на здании казармы другое знамя, совсем не похожее на то, которое горделиво реяло накануне вечером, другая часть населения задумывалась, где и как укрыться или, по крайней мере, припрятать что поценнее. И нам случалось перебираться в предместья, а к нашествиям завоевателей на квартиру мы почти привыкли. Каждое из них бывало, ясное дело, связано со срочной конфискацией всего, что лежало сверху и что можно было затолкать в карманы, вещмешки или кавалерийские сумки. В этом смысле представители разнообразных, взаимоисключающих политических ориентаций проявляли поразительное единство программ. (...)
Той весной мы оба с Янушем полагали, что нам доведется долго шлепать по Гнилому Тикичу, вылавливая карпов. Приближалось лето, и уроки, которые давала нам в Тараще знатная, но скучная учительница, панна Идалия, подверглись столь желанной приостановке. Однако нежданно-негаданно в Порадовке появился отец. Приехал он вполне нормально, на собственной низкорослой лошадке, непригодной для кавалерии и, стало быть, для конфискации, а сейчас запряженной в легкую коляску.
— Завтра возвращаемся, — с ходу заявил он. — Таращу заняли польские войска...