 |



Войцех Станиславский
ЖИЗНЬ НА ОБОЧИНЕ
Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой
"Новая Польша", 2006, №7-8(77), стр. 91-96.

В результате перемен, произошедших в России: падения монархии, прихода к власти большевиков, несколько лет тянувшейся гражданской войны - страну на рубеже 1920-х покинуло несколько миллионов человек, в большинстве своем русских. Русская эмиграция была в высшей степени разнородной (чтобы не сказать разделенной): разными были время, направления и способы ухода из России, материальное положение, решимость и, может быть, главное - политическая ориентация. Объединяли эмигрантов нежелание жить под властью большевиков и надежда на политические перемены.
Русские беженцы оказались во многих странах; эмигрантские авторы, поставившие себе целью показать размах и масштабы рассеяния, нередко упоминали о существовании русских колоний в Северной Африке, Южной Америке, Японии. Однако подавляющее большинство эмигрантов осело в Европе. Трудно привести точные данные о численности русских общин в разных странах: добросовестной оценке мешают частые перемещения беженцев, трудности с исчислением "местных" русских, живших в данной стране до 1914 г., наконец, не всегда доброжелательное отношение властей, стремившихся занизить число эмигрантов в своей стране.
Особенно много споров вызывали попытки исчислить русских беженцев в Польше: многие эмигранты придерживались доктрины "триединства", согласно которой белорусов и украинцев следует рассматривать как "русские племена"; нередко русскими считали также всех православных. Все это породило своеобразный, не подтвержденный никакими доказательствами "миф о шести миллионах", имевший хождение у эмигрантских авторов вплоть до 1970-х (см. напр. такой серьезный труд, как "Зарубежная Россия" П. Е. Ковалевского"). Опровержение тезиса о шести миллионах русских эмигрантов в Польше эмигрантские деятели считали одним из главных доказательств "польской русофобии"*. Польские политики и публицисты склонны были к противоположному подходу: они занижали численность русского населения; о том, что это делалось хотя бы в некоторой степени злонамеренно, свидетельствует факт легкого отхода с этих позиций, как только это диктовала политическая конъюнктура**. Выводя средние данные из того, что публиковалось в статистических ежегодниках и приводилось в докладных записках администрации и спецслужб, можно все-таки принять, что Польша относилась к странам с довольно большой общиной русских беженцев, составлявшей несколько десятков тысяч человек. Тем не менее история русской эмиграции в Польше - у нас в стране тема почти неизвестная либо в лучшем случае "экзотическая" в дурном значении этого слова.
Это случилось не только с польской историографией или польским общественным сознанием. История "белых" эмигрантов и, может быть, особенно их первой послереволюционной волны мало в какой стране дождалась подробного рассмотрения. Даже там, где сохранились архивы, а историки надлежащим образом их использовали, это в малой степени отразилось на коллективном сознании, неизменно недоброжелательном к эмигрантам и склонном видеть их в карикатурном упрощении. Мало кто описал это явление с такой проницательностью и сарказмом, как Владимир Набоков в романе "Пнин"***.
Однако польская память, включая как "профессиональную", так и коллективную "обиходную", в отношении русских эмигрантов выглядит особенно неверной. Среди многочисленных причин на это больше всего повлиял, вероятно, цензурный запрет, наложенный на эту тему в ПНР и действовавший больше полувека, а также крайне плохая сохранность архивов.
Эти замалчивания и упрощения было бы, однако, слишком легко оправдывать, когда в польской словесности речь заходит о "белой эмиграции". В межвоенной Польше об "ограничении открытых высказываний", накладываемом прежде всего самоцензурой, мы можем говорить, имея в виду скорее самих эмигрантов, нежели поляков. В Польше после 1989 г. об ограничениях свободы исследований говорить невозможно. Тем не менее изучение этой темы до сих пор сводится в основном к эксплуатации самых упрощенных стереотипов. Например, одна серьезная газета, упоминая о "Русском доме" - одном из важнейших культурных и политических учреждений русской Варшавы, - писала что здесь "в межвоенные времена (...) белые эмигранты основали клуб. (...) Они роняли слезы под цыганские песни (...) пили польскую водку и играли в русскую рулетку". И это далеко не единственный случай обращения к исключительно карикатурному стереотипу "эмигрантов, мурлычущих цыганские романсы". Можно найти красноречивое высказывание Ксаверия Прушинского (явно ничего не знавшего о стремлении части русских эмигрантских деятелей в Польше обращаться к наследию польской "великой эмиграции" и черпать из нее образцы), который противопоставлял "величие" польской эмиграции и "мелкость" русской, причем так, что вышеприведенный сарказм Набокова попадает в самую точку****.
Самая очевидная причина такого пренебрежения - предрассудки, унаследованные от времен российского владычества. Эти предрассудки одновременно стали в межвоенной Польше элементом своеобразной обратной связи: память о былых обидах не способствовала установлению контактов с "белой эмиграцией", а ничто так не порождает новых предубеждений и предрассудков, как невежество. Можно подумать и над тем, не представляли ли русские эмигранты ("белые") "реликта прошлого", мифологизированного польской национальной манией величия и полезного в качестве "живого примера" побежденного, униженного, еще недавно всесильного врага-захватчика. Это была, пожалуй, не единственная причина: значительную роль сыграли цензурные соображения в послевоенные полвека или сохранившиеся мнения эмигрантов, обычно далеко не доброжелательных к Польше.
Бесспорным, однако, остается "отсутствие" или по крайней мере маргинализация русских эмигрантов в польской памяти. Это "отсутствие" тем более поразительно, что русская община в Польше была крайне интересна как сама по себе, так и по причине той особой напряженности, какую несомненно вызывало своеобразное польско-русское "столкновение". Более того, представители этой общины несколько раз повлияли на крупные политические решения, направлявшие ход истории межвоенной Польши*****. Все эти эмигранты (употребим высокие слова) делили с населением Польши его судьбу. Если попробовать составить своеобразный "указатель к воспоминаниям" эмигрантов, то окажется, что они запомнили и блистательное возвращение Пилсудского из-под Киева в мае 1920 г., а двумя месяцами позже - хаотическую эвакуацию (К. Н. Николаев - Бахметевский архив), и жизнь в помещичьем имении (Е. В. Исаакова - там же), и прелести "современного стиля жизни" в модном пансионате в Закопане (Ольга Писаревская - там же). В памяти эмигрантов нашлось место описанию нужды на восточных окраинах и назревающего бунта (М. А. Моисеев. Былое. Сан-Франциско, 1980), бомбежкам Варшавы в сентябре 1939 г., а после них, во время оккупации, наступившей "малой стабилизации" с растущим безразличием к судьбе тех, кому приходилось хуже (А. К. Свитыч - Бахметевский архив). Есть в русской эмиграции своя легенда, подобная легендарной смерти Виткация: в воспоминаниях Свитыча и Моисеева говорится о самоубийстве капитана Николая Ивановича Дроздовского при известии о вторжении Красной Армии в пределы Польши.
Надеюсь, что описание русской эмиграции на польских землях может оказаться полезным тем, кто заинтересован межнациональными отношениями во Второй Речи Посполитой, историей антикоммунистической мысли или социальной динамикой "нацменьшинств". Среди причин, которые склонили меня заняться "белой эмиграцией", главную роль все-таки сыграло недовольство "отсутствием" русских эмигрантов, одной из групп населения межвоенной Польши, в сегодняшней памяти.
Большинство исследователей, занимавшихся до сих пор вопросом беженцев, не придавало достаточного значения тому факту, что условия жизни русской общины в Польше были исключительно сложными - прежде всего потому, что значительная часть русских "беженцев" уже жила на польских землях до 1914-1915 гг. и оставила их, уходя вглубь своей страны - России - от наступающих немецких войск. Когда несколько лет спустя они возвращались на берега Вилии, Буга или Вислы, то не оказывались там - как на берегах Рейна или Сены - нейтральными "экзотическими" пришельцами, к которым окружающие испытывали сострадание, доброжелательность, любопытство или, в худшем случае, равнодушие. Они прибывали на землю, отягощенную памятью разделов Польши, а их самих обуревали многообразные чувства - от мстительной обиды, которую можно назвать "постколониальной" ("Это было наше!..") до смущения, неприязни, раскаяния. Огромное большинство источников как польского, так и русского авторства, в которых содержатся данные, более или менее позволяющие создать "коллективный портрет общины", оперируют лишь определением "русский" - это доказывает, что различению эмигрантов и лиц, имеющих польское гражданство, придавали тогда довольно мало значения. Это различие было существенным при обсуждении вопросов более детальных или связанных с политической деятельностью; зато оно почти ничего не значило, если говорить об условиях жизни, направлениях эмигрантских потоков, перемещавшихся по Европе, или поисках средств к жизни. Это понятно, однако, реконструируя историю эмигрантской политической мысли, я старался каждый раз дознаться не только, каков был формально-правовой статус данного активиста или автора ("эмигрант" или "гражданин Речи Посполитой"), но и был ли этот человек "репатриантом" или же раньше он не был постоянным жителем польских земель.
По многим причинам, изучая активных эмигрантов в Польше, мы встречаемся с негативным отбором: подавляющее большинство образованных и активных людей рассматривало Польшу как "транзитный этап", со временем переезжая в страны, где сосредотачивалась интеллектуальная и политическая жизнь эмиграции. Среди лиц, осевших в Польше, значительную часть составляли солдаты и офицеры русской армии, а также чиновники с монархическими взглядами: и те и другие были малообещающим материалом для выработки оригинальных политических концепций.
Напряженными и неприязненными - по сравнению с другими государствами, дававшими русским убежище, - были и отношения между польским обществом и государственно-административным аппаратом, с одной стороны, и русскими беженцами - с другой. И это, понятно, не способствовало развитию и свободному изъявлению политических концепций эмиграции. Тому было несколько причин. Главную роль сыграло существование двусторонних негативных стереотипов и травм; не без значения было и то, что польская сторона давала выход чувству "триумфа" по отношению к представителям народа недавних захватчиков. Однако мнение подавляющего большинства беженцев, согласно которому главной причиной малого гостеприимства была якобы "имманентная польская русофобия", представляется мне ошибочным.
По моему убеждению, в основе взаимной неприязни лежало принципиальное расхождение (несогласие или, прибегая к латыни, incomptabilitas) между польскими и российскими государственными интересами - российскими в том виде, как их понимали эмигранты. Для подавляющего большинства беженцев неприемлемым было то, что Рижский мирный договор обкарнал границы России.
Естественно, эмигрантские круги весьма различались своим отношением к модели государственно- го устройства России и к "национальной эмансипации" отдельных народов, входивших до 1917 г. в состав Российсюй империи. Разброс позиций проходил от имманентного "реставраторства" крайних монархистов, которые стояли за безоговорочный возврат государственного строя и прежней территории, через готовность к уступкам в области культурной, языковой или даже административной "автономии" польских земель, вплоть до представленной главным образом в "кадетских" кругах готовности признать независимость Польши. Впрочем, и эти уступки, даже шедшие далеко навстречу польским чаяниям, ограничивались территорией бывшего Царства Польского - ни одна политическая группировка русской эмиграции (за исключением сторонников Савинкова) не смирялась с потерей земель "Междуморья", населенных "русскими племенами" (см. выше о доктрине триединства). Следует добавить, что даже кадетские круги, в принципе смирявшиеся с территориальными переменами и уменьшением российского государства в его границах, предупреждали, что такого рода решения могут быть приняты лишь Учредительным собранием или другим представительством российского общества. Рижский же договор был в глазах эмиграции как бы дважды неправомочным: во-первых, он закреплял переход земель, принадлежавших России, под власть иностранной державы (Польши); во-вторых, власти Польши подписали его с "узурпаторами". Если подпись большевиков под договором рассматривалась как еще одна "государственная измена", то Польше в этом политическом преступлении выпала роль соучастника, притом действовавшего умышленно, если принять во внимание укорененный среди русских миф о польском "Drang nach Osten".
Польские власти, в свою очередь, не могли смириться с тем, чтобы на их территории велась деятельность группировок, направленная на подрыв прочности и правомочности границ возрожденной Речи Посполитой. Они не могли позволить открыто высказывать и популяризировать такого рода позиции. Когда осознаёшь, насколько резким и в то же время не поддающимся ликвидации было это расхождение, то просто диву даешься тому, что эмигрантская община могла функционировать на польских землях на протяжении всего меж- военного двадцатилетия - даже в форме, ограниченной по сравнению с соседними странами. Следует предположить, что это происходило в силу двустороннего стремления к компромиссу или, может быть, точнее - нежеланию ставить вопросы ребром. Тем не менее польские власти не раз предпринимали решительные шаги (высылку) в отношении групп (главным образом монархистов), нарушавших "молчаливый компромисс" и открыто выступавших за пересмотр Рижского договора. Не без значения был и тот факт, что радикальные круги эмиграции могли подорвать холодные, но приличные польско-советские отношения, поэтому намерения и действия такого рода рассматривались властями Польши как угрожающие польским государственным интересам.
Именно ввиду подозрений (не безосновательных), что такого рода потенциально опасного "ревизионизма" (в отношении Рижского договора) и/или "радикализма" (в отношении СССР) придерживается подавляющее большинство "белых эмигрантов" в Польше, власти относились к ним в целом недоброжелательно. Это выражалось как в ряде правовых ограничений (не давали разрешения на деятельность эмигрантских политических партий, в программе которых можно было усмотреть "ревизионизм"; ограничивали свободу передвижения по восточным воеводствам), так и в том, что никто не предпринимал (или предпринимал в самых скромных масштабах) начинаний по улучшению быта эмигрантов, какие предпринимались в большинстве европейских государств (дотации благотворительным организациям, стипендии шильникам и студентам, облегчения при организации просветительных учреждений). К этому следует добавить низкий материальный статус беженцев и присущее государствам, возникшим в результате распада Российской империи, отсутствие поддержки в российских дипломатических и консульских учреждениях, второй могли пользоваться эмигранты в Западной Европе и Америке. Более того, круги эмигрантов подвергались контролю и слежке (не раз даже манипуляциям), проводившимся сильными структурами польских спецслужб.
Все это приводило к тому, что отношения между поляками и русскими беженцами в межвоенное двадцатилетие были в немалой степени обусловлены негативно; можно сказать, что они были обречены на неудачу. Это происходило прежде всего в силу исторического "багажа". Как в дискуссии о польско-российской границе (и шире - о региональном порядке в Центральной и Восточной Европе), так и в случае проводившейся в стране на фоне "обмена ролями" "реполонизации", которую русские беженцы воспринимали как насильственную "полонизацию-дерусификацию", - позиции настолько расходились, что трудно даже представить себе, как мог бы выглядеть потенциальный компромисс. Пространства взаимных уступок практически не было - и уж наверняка это пространство почти не существовало в глазах людей того времени******. Невозможность согласовать позиции по вопросу о границах уже разобрана выше. Но и "дерусификация", выглядевшая в глазах поляков актом исторической справедливости и "восстановлением наследия", не могла не восприниматься русскими беженцами как поведение несправедливое, унижающее и отчуждающее. Польскому исследователю легче понять это сейчас, по прошествии времени. Людям межвоенного десятилетия (за редкими исключениями) это не удавалось - как в "споре о границах", так и в "споре о наследии". Дополнительно всё усложнял "багаж прошлого": память о недружественных отношениях в эпоху разделов Польши и сильные негативные стереотипы, наросшие главным образом на основе опыта тех времен. Конкурентные картины будущего тоже не удавалось примирить: из того, что известно о попытках согласовать их или хотя бы дать им сосуществовать, пусть на уровне decorum или любезного обхождения в официальной жизни, трудно признать их удачными*******.
Все это способствовало истолкованию поведения "другой стороны" с особой раздражительностью и своего рода мышлению в рамках "теории заговора": любое решение польских властей, пусть даже вполне обоснованное государственными интересами, без труда воспринималось как проявление "польской русофобии" - и наоборот: во вполне оправданном поведении бездомной общины русских бесподданных польские наблюдатели готовы были видеть "русификаторские склонности". Дал себя знать и губительный, но столь нередкий в отношениях между двумя национальными общинами механизм "заколдованного круга": поведение и решения одной стороны, сами по себе ничтожные, другой стороне кажутся непропорционально сильной реакцией. Польско-русские травмы в межвоенное двадцатилетие оставались открытой раной, не смягчались. То, что выход существовал, доказывают позиции тех, кто с обеих сторон стремился к диалогу, - в первую очередь людей, собиравшихся вокруг Дмитрия Философова; их достижения заслуживают глубокого изучения. Но одновременно, предпринимая попытку "каталогизировать" мысль политических эмигрантов, в том числе и размышления о Второй Речи Посполитой и польско-русских отношениях, следует отдавать себе отчет в том, какой груз прошлого над ними тяготел и какой интеллектуальной независимостью (данной, увы, не всем) нужно было обладать, чтобы от этого груза избавиться.
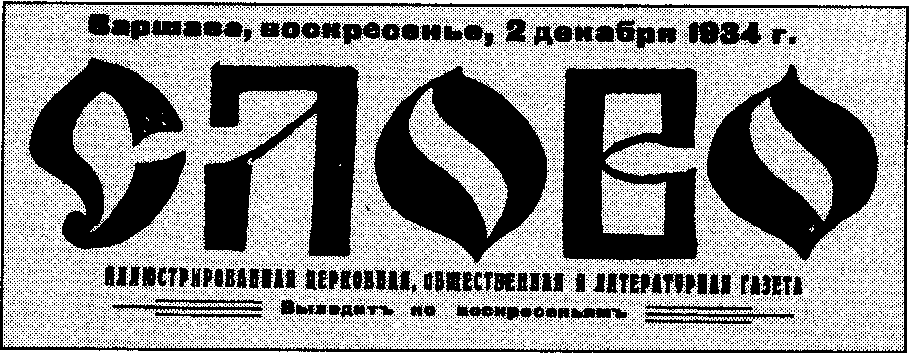
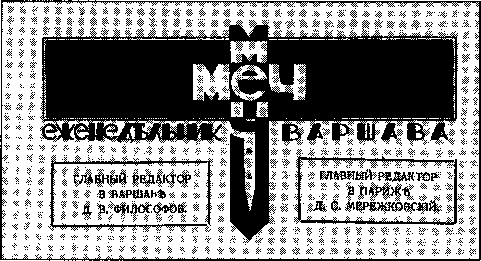
*Как величайшую несправедливость, совершенную поляками, оценивает эту "фальсификацию" в своих воспоминаниях (хранящихся в Бахметевском архиве) Довойно-Соллогуб. Даже эмигранты, доброжелательно настроенные по отношению к Польше и на уровне политических деклараций признававшие украинцев отдельной нацией, в повседневной работе склонны были писать о нескольких миллионах русских в Польше (напр. А. Вельмин в "Последних новостях", 1939, 12 марта).
**Ср. напр. заявление польского посла в Москве Станислава Патека во время переговоров с чиновниками Наркоминдела, когда после попытки братьев Трайковичей совершить теракт против советского посольства в Варшаве советские власти в очередной раз потребовали выселить всех эмигрантов с территории Польши, на что польская сторона не соглашалась: "В Польше белых эмигрантов сотни тысяч".
***"Я встретился с ней и с Пивным в доме известного эмигранта, эсера, за вечерним чаем - на одном из тех непринужденных сборищ, где старомодные террористы, героические монахини, одаренные гедонисты, либералы, дерзновенные молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и публицисты, вольнодумные философы и ученые являли род особого рыцарства, деятельное и значительное ядро сообщества изгнанников, треть столетия процветавшего, оставаясь практически неведомым американским интеллектуалам, у которых хитроумная коммунистическая пропаганда создавала об эмиграции туманное, целиком надуманное представление как о мутной и полностью вымышленной массе так называемых "троцкистов" (уж и не знаю, кто это), разорившихся реакционеров, чекистов (перебежавших или переодетых), титулованных дам, профессиональных священников, владельцев ресторанов, белогвардейских союзов, - массе, культурного значения не имеющей решительно никакого" (Пер. С. Ильина).
****"Из всех слов в польском и русском языке, - начинает Прушинскнй свой малоизвестный очерк, - нет, пожалуй, других, которые звучали бы настолько иначе и так отличались бы друг от друга, как вот эти слова: эмигрант, эмиграция. У вас, русских, эмиграция ассоциируется с такими именами, как Деникин, как Юденич, как Колчак, как Врангель, ассоциируется с бездарностью, жестокостью, с реакционностью и отсталостью, наконец, с парижскими кабаре, стамбульской панелью, китайскими курильнями опиума на Дальнем Востоке - со всем этим болотом, в которое в конце концов скатилась русская эмиграция (здесь и дальше выделено мной. - В. С.). Вот с чем у вас, русских, ассоциируется эмиграция. Но с нами, поляками, дело обстоит иначе. Для нас эмиграция означала величие. (...) Эмиграция звучит для нас великимн именами далеких битв, в которых и польское оружие побеждало. Это пирамиды и итальянская кампания Бонапарта, это Аустерлиц и Ваграм, это Гогенлинден и Самосьерра".
*****Я имею в виду прежде всего роль эмигрантов (как отдельных личностей или как фактора, с которым нужно считаться) в истории польско-советских отношений: начиная с трагической судьбы Бориса Савинкова, от которого в 1920 г. Ю. Пилсудский ждал, что он станет создателем "третьей России", и который в 1924 г. перешел польско-советскую границу, чтобы погибнуть на Лубянке, - вплоть до целого ряда террористов, от Бориса Коверды до Юрия Войцеховского, совершавших в Варшаве теракты против советских дипломатов.
******"Несходимость" обеих позиций хорошо иллюстрирует неопубликованный комментарий польского публициста и политика Леона Василевского к очерку Виктора Чернова "Две недели в Польше" ("Воля России, 1925, №1). Василевский считает текст Чернова "примирительным", выражает убеждение, что "одним из намерений автора было убедить хотя бы часть [эмигрантов] (...) что в Польше не так уж безнадежно плохо, как представляет себе рядовой русский, что "Польша" и "русофобия" - это не синонимы". Так Василевский оценивал статью, автор которой, говоря о положении эмигрантов в Польше, сосредотачивался на закрытии русских школ, взрыве собора Александра Невского в Варшаве и полонизации восточных окраин, разумеется, все это осуждая. Группу Савинкова, по словам Василевского, Чернов считает раскольниками, на которых с момента ратификации Рижского договора легла тень национальной измены. Имеет смысл задуматься, каковы же были антипольские тексты, если этот очерк сочтен "примирительным".
*******Даже у Савинкова, активность второго в планах польско-русского примирения, по крайней мере в 1920- 1921 гг. несомненна, заверения, например, в том, что польский орел "нам, русским патриотам", почти так же близок, как русский ("За свободу", 1921, 1 янв.), звучат не слишком убедительно. Полное представление о том, как гротескны бывали попытки "единения памяти", дает, например, описание празднования 15-летия восстановления независимости Польши в Виленской православной духовной семинарии (в анонимном письме - Бахметевский архив, организационные доклады РОВС, Польша, 1933-1934): после торжественного заседания была показана сценка, где в лесу у костра сидят три польских скаута - их роли, естественно, играют русские семинаристы - и с пафосом ведут разговоры о великой возрожденной Польше и о том, как они рады, что 15 лет назад "наши" показали Кузькину мать "москалям", долго угнетавшим Польшу и не позволявшим ей развиваться.
Публикуемый текст - отрывок из готовящейся в настоящее время к печати кандидатской диссертации "Политическая мысль русской эмиграции во Второй Речи Посполитой"), написанной под руководством профессора Шимона Рудницкого и защищенной весной 2002 г. в Варшавском университете.
См. также продолжение - Войцех Станиславский. Согласие и раздоры. Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой. Статья вторая ("Новая Польша", 2006, №9(78), стр. 35-40).